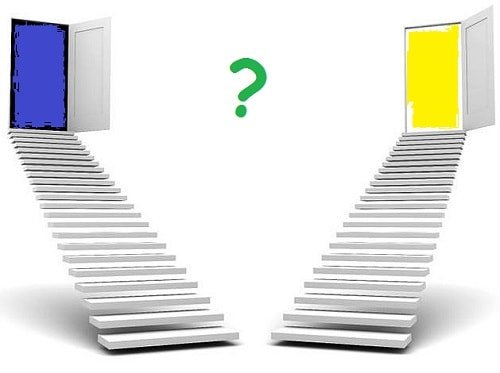Тиберий Сильваши художник-абстракционист
Художник-абстракционист Тиберий Сильваши в своем творчестве исследует проблему времени и, как говорит он сам, делает живопись о живописи. Вопросы, которые сейчас являются главными для искусства: каким является «посмертное» существование картины, как изобразить потоки времени и пропустить сквозь себя реку цвета — об этом и рассказал известный художник.
Тиберий Сильваши художник-абстракционист
О зрителе внутри искусства
Чтобы понимать искусство, а тем более современное — надо с этим жить и думать об этом. Конечно, есть разные уровни взаимодействия с искусством.
Можно просто воспринимать его как часть «светского» времяпрепровождения с обязательным селфи. И все же чтобы как-то серьезнее включиться в этот непростой процесс, надо быть подготовленным.
Ты заходишь в галерею — и видишь не одно полотно, а то, как все эти полотна взаимосвязаны. Они перекликаются, отражаются и комментируют друг друга, задают вопросы и отвечают на них, говорят с тем, что было сделано кем-то на другом конце света… И это надо понимать — или хотя бы уметь почувствовать.
Особенность современного искусства в том, что оно рефлексирует над собой, над своими формами, над человеком, который его изучает.
Созерцание — это лишь небольшая его составляющая, которая более характерна для традиционного искусства. В классическом варианте зритель потребляет, считывает произведение искусства, которое ему противостоит. Сегодня механизмы взаимодействия произведения, зрителя, искусства и социума другие.
Бойс как-то сказал, что каждый может быть художником. Возможно, он несколько погорячился. Но дело здесь скорее в том, что изменяется функция зрителя в искусстве. Он уже непосредственно, телесно включен в пространство искусства и является его частью.
И художник учитывает участие публики. Именно социальные силы определяют то, как действует образ. Важными становятся концептуальные связи между пространством картины и окружающей реальностью.

Об эпохе вопросов
Слово «искусство» мы все время применяем к совершенно разным вещам: искусство кулинарии, искусство управления автомобилем и тому подобное. То есть оно уже привычно описывает некое умение, ремесло, и теряет свое истинное значение.
По сути, мы потеряли категориальный аппарат, критерии, точные представления о том, что же такое искусство. И недаром многие люди, которые по-настоящему углубляются во все эти вещи, болеют и разрабатывают теоретические основы, говорят, что сейчас искусство серьезно изменилось.
В искусстве гораздо раньше прорабатываются структуры, впоследствии которые начинают проявляться в обществе.
Есть эпохи, когда существует заданная система мировосприятия, понятный категориальный аппарат. Имеет место постоянная иерархия высокого и низкого, достаточно четко очерченные ценности и, наконец, если не на все, то на большинство вопросов есть ответы. А есть эпохи, когда ставятся вопросы.
К счастью или к сожалению, мы как раз живем в такую переходную эпоху и должны сами искать ответы и вырабатывать критерии. И один из главных вопросов сейчас: в чем заключается функция искусства?
Возможно, искусство уже никогда не будет таким, как раньше. Каким оно должно стать? Это тоже следует из вопроса о функции искусства.
Искусство работает с проблемой границы, оно всегда находится на границе и расширяет ее. Только возникает уже освоенная территория, с нее надо уходить. Потому что внутри сложившегося поля появляются шаблоны, клише.
Когда ты первым что-то делаешь, прорываешься на новую территорию, предлагаешь совершенно новую концепцию — тебя просто не видят, люди еще не готовы к этому, их оптика еще не настроена на такое восприятие.
Некоторые художники поэтому практикуют провокации, чтобы обратить внимание на проблему, с которой работают, и это часть их стратегии. Так эффект переходит в эффективность, задавая вопросы — не про что это произведение, а для чего.
Как искусство влияет на нас
Художник через механизмы визуального воздействия переиначивает наши взгляды. Это действует медленно, не сразу. Как-то Пикассо метко сказал про свои композиции, тогда еще мало понятные окружающим: через некоторое время эти структуры войдут в вашу жизнь в виде дизайна.
Через искусство мы постепенно начинаем видеть мир гораздо более осознанно, чем он нам дан в непосредственных ощущениях. Это влияет и на всю материальную культуру, что нас окружает. И это должно воспитываться с детства.
Зайдите в любой музей на Западе, говорит Тиберий Сильваши, — там всегда есть дети, с утра до вечера их туда приводят. Искусство для них — обычное дело, они растут с ним. Нам кажется, что это просто какая-то другая ментальность, что там — другая индустрия, которая производит красивые вещи, строит красивые дома. Но индустрия там такая именно потому, что люди с детства ходили в галерее.
Более того, в искусстве гораздо раньше прорабатываются, интуитивно прокручиваются, проговариваются структуры, которые начинают впоследствии проявляться в обществе. Та же картина является отражением не только микрокосма художника, но и генома социальных отношений.
Я одному из политиков как-то сказал: если бы вы посмотрели и хорошо изучили вещи, которые происходили у нас в искусстве в 90-е годы, вы бы гораздо раньше поняли, куда все идет и что с этим делать.
Культурный несинхрон
Мы живем в культурной хроно-несогласованности. Люди, и целые страны могут одновременно находиться в разных временах. Например, многие из нас в своем видении находится в 19 веке, живя картинами и читая их способом, который был присущ той эпохе. Другие находятся в 21 веке — и никак не совпадают с теми, кто вокруг.
Вот эти культурные несогласованности, наслоения — очень важная черта нашего времени, которую мы должны учитывать. Такой хронологический несинхрон дополнительно усложняет понимание искусства и диалог о его назначении. И одновременно это несовпадение вопросов и ответов — очень интересное для анализа эпохи и психологического портрета этноса.
О смерти картины
Сейчас все говорят, что живопись умерла. Ну конечно, это связано с претензиями высокого модернизма, с его постоянно повторяющимися жестами «последней» и «первой» картины. Сколько интервью мы читаем о похоронах живописи и картин … Все это остатки древних модернистских дискуссий.
Разумеется, конкретные виды искусства возникают в определенных социокультурных формациях, соответствующих определенному мировоззрению, определенным условиям. И когда условия меняются или исчезают, отношения этих видов искусства с социумом тоже меняются. Какие-то функции медиума оказываются неважными, второстепенными, другие же, наоборот, становятся актуальными и решают его жизнеспособность.
Но тут люди путают живопись и картины. Действительно, мы привыкли отождествлять эти вещи: когда говорим о живописи, то имеем в виду картины. В то время как картина — это лишь эпизод в истории живописи. Однако живопись существовала до картин и будет существовать после них, она лишь меняет свою форму.
На самом деле, картина существует только 500 лет. Она родилась на рубеже Средневековья и Возрождения. Тогда были выработаны специфические медиумы — прямая перспектива и рама — это то, что отличало картину от книжной иллюстрации или иконы в готическом соборе. Картина — как окно в мир, она отделена от мира и изображает его с точки зрения зрителей, которые смотрят на него.
Эта формула, которая действует со времен Альберте, Мантеньи и Джотто, начинает распадаться в 19 веке с романтиков и импрессионистов и полностью разрушается в 20 веке Малевичем. Картина доходит до «Черного квадрата» — это и есть условная «смерть» картины. И буквально спустя несколько лет после этого Дюшан открывает эпоху контекста и присутствия.

Дематериализация и псевдокартины
Контекст в 20 веке оставался очень важным как проблема и метод саморефлексии. Концептуализм развил идеи Дюшана, работая с языком, стилем и критикой. Какое-то время была такая дематериализация искусства. Но сейчас все чаще звучит мысль о возвращении произведений искусства к их материальной сущности.
Если говорить о живописи, то сейчас имеет место уже «посмертное» существование картины, или скорее «псевдокартины», или «посткартины». То есть имеются все физические признаки классической живописи: подрамники, полотно, краски.
Но теперь идет речь не о репрезентации вещей из окружающего мира, а это является скорее созерцанием за жизнью идей, своего рода колебанием модуляций смыслов, их комбинации, дешифровки знаков. Все то, что сегодня выставляется в форме картины, должно учитывать этот момент конца.
Иначе ты просто будешь дилетантом, который не понимает и неадекватно использует свои инструменты.
Живопись в таком постконцептуальном смысле стала свободной в комбинировании форм, синтаксических фигур. И название такому искусству — маньеризм. Во всяком случае, в его мейнстримовой части.
Я называю свои работы не картинами, а цветными объектами. Картина — это закрытая структура, даже если это псевдокартина. Объект — структура открытая, и уже совсем иначе действует. Он может быть связан с тем, что есть рядом по горизонтали — и с соседним в возрастных отрезках.
Ты, например, ссылаешься на Фра Филиппо Липпи, или на Беато Анджелико с его голубым цветом — и таким образом соединяешь временные потоки. И сам по себе, и как часть серии, цветной объект работает на содержание напряжения между тавтологией серии и уникальностью персонального жеста.
Как изобразить время?
С самого начала я чувствовал, что меня не устраивает что-то изображать — ни портрет, ни пейзаж, ни стул или вазу … Мне было недостаточно этой картинной плоскости — и тут что-то надо было делать. В какой-то момент я понял, что предметом искусства, который меня интересует, является такая странная и противоречивая для визуализации категория, как время.
Для меня это было тяжелое испытание, ведь искусство живописи для этого как-то непригодно. Уже потом я наработал целую программу хронореализма — искусства потока времени. Идея была в том, что наряду с субъективным временем, которое мы проживаем, существует еще «метафизическое» (иначе не могу сформулировать) время. Как это объединить?
В античной греческой философии есть несколько определений времени. Хронос делит время на отрезки, которые выстраиваются в горизонтальную последовательность календаря. Кайрос — бог счастливого момента, которого можно поймать только лицом к лицу. А еще есть эон — неделимый поток времени.
Моя живопись как раз является попыткой работать с этим потоком. Именно тогда становится важным бесконечная череда полотен — такая тавтология, при этом одно и то же полотно создается бесконечно. Я могу работать с ним долгие годы, или даже всю жизнь. И не важно — с рядом полотен, или с одним полотном.
Интересно, что интуитивно я это начал гораздо раньше. В 78-м году я был полтора месяца на Сенежи, тогда существовали такие всесоюзные дома творчества. Середина лета, я писал интерьер, солнце, тень … И каждый день переписывал одно и то же синее пространство.
Народ на это грустно смотрел, некоторые просто неистовствовали: у тебя все уже завершено! А я с этим ничего не мог поделать — подсознательно я тогда делал то, что через 20 лет стану делать в своих монохромных полотнах.
Это поражает, ведь оказывается, что ты будто запрограммирован, в тебе странным образом живет эта вещь, которую ты никак не можешь искоренить, пока не найдешь форму выражения.
Ритуал живописи
Я не могу не ходить в мастерскую. Я иду туда, даже когда ничего не делаю — просто сижу перед полотном и думаю о нем. Ритуал живописи не может заканчиваться никогда — это программа для меня. Больше всего меня смешит, когда спрашивают: а вдохновение? А нет вдохновения! Я прихожу и делаю — а потом в какой-то момент это перерастает в нечто иное.
Ежедневная работа стала для меня самодисциплиной. С другой стороны — для меня крайне важен этот диалог с полотном. Это странно, ведь ты общаешься как бы с мертвой вещью — куском полотна, на который наносишь краски.
Здесь моя шизофрения углубляется — и в какой-то момент я получаю от него ответ. Когда-то этот диалог приостанавливается, тогда просто откладываю его в сторону — и оно ждет своего часа, когда с ним снова нужно будет говорить.
Этот ритуал живописи для меня является самым главным в жизни. Даже когда идешь по улице, в разговоре или в любом месте, все время остается эта профессиональная фиксация. Оптический аппарат уже настроен таким образом, что я постоянно перевожу ту картинку, которую вижу, в материал — в визуальный пластический эквивалент.
Например, играешь в футбол — и, падая, видишь, как напрягается нога у человека рядом, но через все мышцы еще видишь на противоположном берегу реки каких-то людей и машину, а еще лодка, проходящая мимо … Это все одновременно происходит, считывается и фиксируется в механизме визуальной памяти.
Теперь речь идет не о репрезентации вещей из окружающего мира, это скорее является созерцанием за жизнью идей.
Археология цвета
Можно сказать, что моя работа завершается в первый день — и не заканчивается никогда. Есть полотна, которые я пишу по 15-20 лет. Как это происходит? Вот в какой-то момент я теряю контакт с полотном.
Ставлю дату на обороте, откладываю, оно идет на выставку, возвращается … и когда-нибудь наш диалог начинается вновь. Оно что-то говорит, я отвечаю — порой добавляется какой-то один элемент, или же переписывается совершенно полностью. Такой процесс иногда повторяется несколько раз — на некоторых работах стоит по 4-5 дат.
Историю написания видно также на боковых сторонах полотен. Туда затекают краски, и можно увидеть эти наслоения, и каким образом они образовались. В моих монохромных работах очень важна эта археология цвета. Время — оно все там, на боковинках. А еще — в тех слоях краски, которые невидимы под поверхностью последнего.
Обычно возникает вопрос: а когда работа закончена? Есть такой художник-монохромист Моссэ, он говорил: картина завершена, когда ее купили. Здесь я согласен — тогда действительно все, ты уже не можешь к ней вернуться, теперь она живет своей жизнью.
Как возникает живопись
У меня есть такая метафора: над нами течет река цвета, которая время от времени на различных территориях выпадает. Так появляются живописцы. В истории искусства их немного. Скажем, в абстрактном экспрессионизме был только один живописец — Ротко. Так же в 17 веке в Голландии было очень много классных художников, но только Вермеер и Рембрандт были живописцами.
Все имеют в руках одни и те же материалы — краски, кисти, мастихин, холст. Но почему-то у Терборха получается сценка-анекдот, а у Вермеера над поверхностью полотна возникает метафизический свет. Я, во всяком случае, его вижу.
И для меня этот свет — как раз то, что отличает живопись от того, что просто нарисовано красками. Здесь есть что-то вне физики, что-то данное богом или природой.
Те, кого мы называем колористами, от рождения видят цвет лучше и сложнее, чем остальные люди. Но не каждый колорист становится художником. Чтобы быть художником, надо стать проводником — позволить своему дару пропускать через тебя полотно потоки цвета, которые на тебя сваливаются.
Надо стать пустым, как тростник, — ты не должен быть заполнен какими-то волнениями, переживаниями. Ты должен убрать свое профанное, психологическое «я» — все то, что романтические натуры называют самовыражением.
Такой отказ от всего, что загромождает «трость», которая должна пропустить цвет, — это похоже на восточные практики. Где-то близкое к йоговским вещам, или к тому, чем занимались японские или китайские каллиграфы.
Тиберий Сильваши художник-абстракционист, 2015 год.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Blogger
- LiveJournal
- Surfingbird
- Tumblr
- Viber
- Skype
- Telegram
Вам так же будет интересно:
- Добрый день, дорогие домоседы. Мы сегодня узнаем, что за наука современная социология и каково ее место среди общественных наук. Наука ...
- Добрый день, дорогие домоседы. Ненависть к себе означает ненависть к Богу – так ли это? В этой статье повествование будет идти ...
- Добрый день, дорогие домоседы. Вы верите в то, что иллюзия выбора – это игрушка для эго? Многие психологи, а также всевозможные ...
- Добрый день. Для некоторых может показаться, что любовь на работе – завести служебный роман – очень романтично. Однако подобные отношения ...